Безгрешное сладострастие речи. Елена Толстая
Чтение книги онлайн.
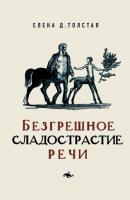
Читать онлайн книгу Безгрешное сладострастие речи - Елена Толстая страница 37
Название: Безгрешное сладострастие речи
Автор: Елена Толстая
Издательство: НЛО
Жанр: Языкознание
Серия: Критика и эссеистика
isbn: 978-5-4448-2043-8
isbn:
Понятно, что наиболее распространенным типом героя в дореволюционном театре был герой мыслящий и сомневающийся, то есть неврастеник. Из повести Бромлей мы узнаем, что это амплуа сохранилось только для «ответственных, умирающих на посту». То есть это крупные партийцы и военные, принимающие трудные решения (только так можно было оправдать такое проклятое наследие прошлого, как неврастения, то есть внутреннее несогласие с самим собой), а потому гибнущие от инфарктов на общем фоне переутомления.
Почему комики в новых пьесах не вылезают из крахмального белья? Видимо, они играют богатых, а богатые должны выглядеть идиотами.
Почему спрос на резонеров увеличился вдевятеро? Потому что уровень пьес сознательно понижался, шло запланированное оглупление публики, все объяснялось, причем на самом примитивном уровне.
Почему любовников почти не осталось? Потому что носители мужского начала – самостоятельные, независимые, добивающиеся своего герои – казались несовременными теперь, когда личная жизнь стала не важна по сравнению с политической злобой дня. Поэтому такие персонажи должны были молчать, в сюжете им делать нечего, кроме как гибнуть.
Реставрация. В «Птичьем королевстве» отразились стремительные духовные перемены, суммируемые как моральная деградация театра. Революционный театр Вахтангова ушел в воспоминания. Налицо реставрация допотопной рутины, утрата духовного активизма, характерного для Серебряного века и первых пореволюционных лет. Автор описывает некий обобщенно-московский театр, где все само неудержимо сворачивает на старый лад – к театральным нравам и обычаям, принятым не только до революции, но и до реформы Станиславского:
«Это Ноев ковчег, торжественно всплывший после потопа. Добротное все для всех. Но старая Москва сидит в его углах, и запах дореформенных сигар никогда не покинет красного штофа наших портьер» (с. 11).
Революция – потоп, который живописал Маяковский в принудительно насаждавшейся во всех театрах «Мистерии-буфф», – схлынула, но в середине 1920-х выяснялось, что уцелел не тот великий русский театр, который создавали Станиславский, Немирович, Сулержицкий, на рубеже веков, а театр предыдущей эпохи, традиционный театр старой Москвы – «добротное все для всех». Это тот театр, в котором разрешено было курить: отсюда фраза о запахе дореформенных сигар. Запрет на курение в театре был одним из элементов театральной реформы Станиславского – Немировича-Данченко, вместе с требованием снимать пальто («Театр начинается с вешалки») и запретом входить в зал и выходить из него во время спектакля.
Вечность театра и его опасности. Но есть и внутренние, заданные извечно законы театральной экзистенции: театр всегда одинаков, он нужен и поэтому вечен:
«Видали вы этот паноптикум, это лихое сборище извечно падших героев? СКАЧАТЬ